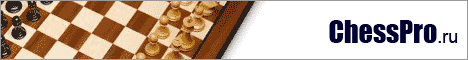|
|
|
||||||||
 |
|||||||||
| Главная | Новости | Турниры | Фото | Мнение | Энциклопедия | Картотека | Голоса | Форум | Поддержать сайт |
30 января Борису Васильевичу Спасскому исполнилось 70 лет. В спортивной карьере десятого чемпиона мира немало блестящих турнирных и матчевых побед, и все же одна из них стоит особняком. Речь идет о 41-м чемпионате СССР 1973 года, собравшем по-настоящему звездный состав (этот турнир по праву считается одним из сильнейших в истории шахмат). В столь грозной компании, когда основные конкуренты находились в расцвете сил, Спасский сумел занять чистое первое место, на очко опередив Карпова, Корчного, Кузьмина, Петросяна и Полугаевского… Идею этой статьи автору, в далеком 1973 году дебютировавшему в "высшем обществе", подсказали редакторы журнала "Schach" гроссмейстер Рэй Тишбирек и международный мастер Дирк Полдауф. На немецком языке рассказ о 41-м чемпионате СССР (в несколько иной редакции) был опубликован в "Schach" №1/2007. Чемпионат СССР 1973 года проходил в московском Дворце культуры железнодорожников, который по сей день находится на площади трех вокзалов, то есть на Комсомольской. В истории нашей страны это было одно из самых сильных первенств, а на мой взгляд, просто сильнейшее. На сцене ДК выступали экс-чемпионы мира Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, будущий чемпион Анатолий Карпов и будущий "злодей" Виктор Корчной, другие претенденты на корону - Пауль Керес, Ефим Геллер, Марк Тайманов, Лев Полугаевский… В главном турнире страны должны были играть все, кто хотел попасть в сборную СССР. Являться игроком сборной было и почетно, и выгодно: от этого зависело отношение к тебе Спорткомитета, возможность зарубежных поездок, размер спортивной стипендии, да и само ее наличие. Административный ресурс был тогда настолько силен, что гроссмейстеры напрямую зависели от спортивного начальства: любому можно было перекрыть кислород, не оформив документы на зарубежную поездку. Только избранные могли игнорировать Спорткомитет, например, Смыслов, у которого были болельщики в ЦК КПСС. Но и он играл в том звездном турнире. Вообще, никому в голову не приходило избегать чемпионатов Союза, наоборот, все стремились туда попасть. Правда, Карпов, став чемпионом мира, в первенствах страны играл нечасто, но Анатолий Евгеньевич находился на особом положении. В 70-е годы уже начали подсчитывать рейтинги, но никого они особо не интересовали. Все понимали, что цифры - это все пустое, а вот выход в Высшую лигу или выигрыш международного турнира - это серьезно. Рейтинги на табличках игроков или в турнирной таблице, конечно, не писали. Напомню, сам профессор Эло предупреждал: "Не надо придавать рейтингу слишком большое значение, это всего лишь вспомогательный элемент". Высшей лиге 1973 года предшествовал многоступенчатый отбор. Я, в ту пору 23-летний мастер из Челябинска, выиграл первенство СССР среди молодых мастеров, и меня за это допустили в полуфинал чемпионата СССР, где я также занял 1-е место. Полуфиналов было несколько, победители получали путевку в Высшую лигу, а следующие двое или трое - в Первую лигу. Персонально в главный турнир страны допустили призеров предыдущего первенства Союза, экс-чемпионов мира, претендентов текущего цикла, Пауля Петровича Кереса - в знак признания его заслуг в шахматах и чемпиона мира среди юношей Александра Белявского. Турнир вызвал огромный интерес. Зал ДК вмещал около 800 зрителей, и практически каждый вечер он был набит битком. Билеты стоили недорого, как и на любые другие культурно-зрелищные мероприятия в то время, но достать их было очень трудно. Участникам давали пригласительные билеты для родных и друзей; за меня, например, часто приходили болеть мама, тетя и сестра, которые жили в Москве. Они совершенно не разбирались в шахматах, но с интересом наблюдали, как изменяется поведение Таля или Геллера, как прогуливается Петросян, выставив вперед животик… Для них шахматисты были настоящими артистами, а чемпионат страны - таким же увлекательным зрелищем, как концерт или театральное представление.
Главными судьями чемпионатов Союза всегда назначали уважаемых гроссмейстеров старшего поколения - Сало Флора, или Александра Котова, или Игоря Бондаревского… Из мастеров был только Владас Микенас, но это такой мастер, который обыгрывал Алехина! Довольно часто зрителей приходилось успокаивать, на сцене загоралась табличка: "Соблюдайте тишину!" Любопытную деталь вспомнил Анатолий Карпов (у меня этот эпизод как-то стерся в памяти). Когда чемпионат начинался, рядом с ЦДКЖ шел ремонт, рабочие гремели отбойными молотками и мешали играть. Никакие просьбы, увещевания, обращения в различные инстанции не помогали, ответ был - у всех своя работа. Тогда за дело взялся судья Борис Равкин: каждый день он приносил ремонтникам пару бутылок водки, и в 16.00 за окнами Дворца культуры наступала полная тишина! (Уточнение редакции. Как мы доподлинно узнали из самых что ни на есть первых рук, честь спасения чемпионата от грохота на самом деле принадлежала Виктору Борисовичу Глатману, который был заместителем главного судьи - Льва Абрамова. 25 рублей стали весомым аргументом для перенесения работ на другие часы.) Туры начинались в 16.00, играли с контролем 2,5 часа на 40 ходов, после чего партии откладывались. Зрители после работы успевали посмотреть самое для них интересное - цейтноты. Помню, в партии с Тукмаковым я потратил много времени в дебюте и попал в жуткий, совершенно не типичный для себя цейтнот - минута на 20 ходов! Мне потом говорили, что это был блестящий блиц (и компьютер в наши дни это подтвердил) - я спас худшую позицию. Многие болельщики в те годы приходили на шахматные турниры специально посмотреть, как блицуют гроссмейстеры, это выглядело очень эффектно. И демонстраторы виртуозно воспроизводили сделанные ходы: один записывал партию, другой стремительно переставлял фигуры на доске. Но зрители все равно на них шикали, торопили, мол, слишком долго возитесь! Это было колоссальное зрелище. А потом какой-то умник придумал добавлять 30 секунд после каждого хода, и это, конечно, сильно ударило по зрелищности шахмат. Тогда действовало правило: до 30-го хода соглашаться на ничью нельзя. Я нарушил его только в одной партии чемпионата-73: Савон предложил ничью ходу на 20-м, я согласился, и мы договорились: в любой позиции на 30-м ходу соглашаемся на ничью. Через 10 ходов у меня был большой перевес, но уговор дороже денег! Быть может, элитные шахматисты иногда заключали мирные соглашения до игры - я не знаю. Это правило просуществовало несколько лет, потом его отменили. Очень хорошо по этому поводу высказался Фишер: "Я лучше, чем вся ФИДЕ знаю, когда мне соглашаться на ничью, а когда нет!" В ДК железнодорожников участникам выделялась специальная комната, куда мы удалялись, чтобы проанализировать сыгранную партию. За нашими спинами стояли журналисты и жадно ловили каждое слово. Сейчас-то им компьютер может подсказать, как правильно играть, тогда же этого не было, они могли только у нас что-то узнать, услышать и записать наши слова. Они подходили и спрашивали оценку позиции, и боялись испортить отношения, потому что в этом случае гроссмейстер мог бы просто не разговаривать с журналистом, а откуда тому черпать информацию для репортажей? Тогда корреспонденты ссорились с гроссмейстерами лишь в исключительных случаях. Еще в ДК был отдельный буфет для участников и журналистов.
В любой телепрограмме или центральной газете спортивная информация начиналась с обзора чемпионата страны по шахматам. Я был молодым шахматистом, малоизвестным. Тем не менее, в Москве меня часто останавливали на улицах, просили автограф, как у артистов, совершенно незнакомые люди приветствовали, желали удачи. К сожалению, сейчас даже чемпионаты мира освещаются только тогда, когда случаются туалетные скандалы. Это просто бред! А некоторые гроссмейстеры и этому рады, мол, хорошо, что хотя бы так обратили внимание на шахматы. Но если только так мы можем привлечь к себе внимание, то лучше уж вообще никак. Это перечеркивает все то доброе и хорошее, что мы имели. Участников разместили в гостинице "Минск" на улице Горького (ныне Тверской). У элиты, конечно, были номера-люксы, а у меня место в двухместном номере, на пару с Белявским. Каждый вечер Саша звонил Ботвиннику, рассказывал о своей партии, получал советы, как готовиться к следующему сопернику. Ботвинник над ним шефствовал, опекал. На питание участникам выдавали талоны рубля на 3-3,5 в день, по ним можно было завтракать, обедать и ужинать в кафе гостиницы. Но я там питался всего пару раз за турнир, да и в своем номере ночевал только один раз, жил в основном у мамы. Поэтому талоны обменял на деньги - естественно, с потерей 20-30 процентов от номинала талонов. Поскольку я жил особняком, на том турнире я мало общался в неформальной обстановке с другими шахматистами. Больше других, пожалуй, с Карповым, мы ведь земляки, знакомы с детства, играли за одну юношескую команду. Чемпионат продолжался целый месяц. Были предусмотрены отдельные дни доигрывания и три выходных. Шахматы были профессией, поэтому каждую рабочую неделю шахматистам предоставлялся один день для отдыха. Ритм жизни был другой, и такие длинные турниры не казались чем-то из ряда вон выходящим. Высшая лига для меня была наполнена богатым шахматным содержанием и пролетела незаметно. К тому же играли мы в Москве, где много всего интересного. В принципе, чемпионаты в столице не совсем показательны в плане проведения участниками свободного времени, поскольку многие гроссмейстеры были москвичами и жили дома. Другое дело, если турнир, скажем, первой лиги проходил где-нибудь в Волгодонске. Вот там действительно некуда пойти, нечем заняться, только разве что в карты поиграть да книги почитать, или выпить за ужином в ресторане водки или коньяка. Вообще, Ташкент, Ереван, Тбилиси, Баку, Ашхабад, Кишинев, Рига и другие столицы союзных республик - почти родные города для шахматистов моего поколения и более старших, столько турниров там сыграно! Возможно, поэтому распад СССР я переживал очень болезненно, поскольку моя Родина резко сократилась в размерах. Специально к чемпионату я купил нарядный костюм. Вообще, ни у кого вопроса не возникало, в чем приходить на игру. Шахматисты чувствовали себя актерами, которые обязаны красиво выглядеть перед зрителями. Без костюма с галстуком практически никто не приходил на игру, не хотел выпадать из общего ансамбля. Ну, разве что в день доигрывания, когда почти нет зрителей. Геллер иногда обходился без галстука, у него фигура была специфическая. В 1976 году, когда я во второй раз вышел в Высшую лигу, то специально для игры на сцене купил бархатный костюм. Приобрел его, когда играл во Франции. Долго к нему присматривался, облизывался - он стоил очень дорого, но потом решил: если займу 1-е место, то обязательно куплю! И отыграл в нем две Высших лиги. Помню, Карпов щеголял в новых модных костюмах, с удлиненным пиджаком, по тем временам это выглядело очень необычно. Известный тренер Анатолий Авраамович Быховский как-то встретил его до игры и восхитился: "Толя, какой же ты франт!" Подтрунивал над ним немножко. Большим модником слыл Спасский, но на чемпионате-73 он своей одеждой мало чем выделялся среди остальных участников. А вот на встречу со спортивными руководителями Борис Васильевич мог придти, например, в кроссовках на босу ногу. Причем демонстративно закидывал ногу на ногу, чтобы они видели, какое он испытывает к ним "большое уважение". И конечно, Миша Таль мог придти небрежно одетым, но на это смотрели сквозь пальцы - он же Таль. Он был моим кумиром, и я на всю жизнь запомнил свою первую турнирную встречу с ним, которая состоялась в 6-м туре. К месту игры я ездил на метро, остальные участники тоже кто как. Когда я подходил к ДК, к дверям подъехало такси, и оттуда вышел Таль. Я его пропускаю вперед и вижу: Таль идет небритый, сгорбившийся, жалко на него смотреть… Когда я вышел на сцену, Таль уже сидел за столиком и напряженно думал - видимо, только сейчас он начал готовиться к партии, дома не стал тратить на меня время и силы. В итоге этих раздумий он решил после 1.е4 с5 2.Nf3 e6 сыграть 3.d3… Подготовку к первой в своей жизни Высшей лиге я начал загодя. Вначале провел большой сбор с моим тренером Леонидом Ароновичем Гратволом в Челябинской области на красивейшем озере Кисегач. Домик у нас был безо всяких удобств, довольно холодный, телевизор только на соседней турбазе, и я ходил туда по вечерам смотреть "Семнадцать мгновений весны". По утрам бегал, купался в озере, а в холодные дни Гратвол заставлял меня перед обедом выпить рюмку водки - чтобы согреться. Шахматами мы занимались по 8-10 часов каждый день, изучали "Информаторы" и дебютные монографии, анализировали. Я готовил в основном черный цвет. На 1.е4 у меня все было более-менее в порядке, я уже играл свою сицилианку и не особенно за нее опасался, но на 1.d4 я не знал ничего, у меня полностью отсутствовал репертуар на 1.d4 и 1.Nf3. Так вот, за месяц я себе сам поставил дебютный репертуар на закрытые схемы, который до сих пор служит мне верой и правдой. А держится он, по большому счету, на одной дебютной идее: в подходящий момент сыграть d5xc4 и удерживать гамбитную пешку. Гратвол был моим секундантом и в Москве. Нам обоим оплатил поездку челябинский спорткомитет. Леонид Аронович - историк по образованию, сильный кандидат в мастера, несколько раз был чемпионом Челябинской области, один из первых тренеров Карпова. Помню, в 1967 году в сборной России среди школьников на 1-й доске играл Тимощенко, на 2-й Карпов и я на 3-й - три ученика Гратвола. Мы тогда выиграли союзную Спартакиаду школьников, и Леониду Ароновичу присвоили звание заслуженного тренера России. Практически все гроссмейстеры, выросшие в нашей области, прошли его школу. Гратвол не обладал какими-то особенными теоретическими знаниями, но он прекрасно понимал шахматы. Никому он не навязывал своего мнения, а только помогал развиваться. И, конечно, своим ученикам он привил любовь к шахматам. Для меня он в большей степени был учителем по жизни, моим старшим товарищем, нежели тренером в шахматах. Для меня главная опасность таких продолжительных турниров, как чемпионаты СССР, заключалась в том, что я не выдерживал длительного напряжения. Конечно, нужен был человек, с кем можно общаться, кто подбодрит в трудную минуту. Например, предстоит партия с Кересом или Спасским, а он напутствует: "Ничего, тебе это не страшно!" Мы с Леонидом Ароновичем гуляли, вместе ходили обедать, но специальной подготовки "под соперника" не было, дебютный репертуар готовили заранее, на сборе. Когда несколько лет спустя мои теоретические тетрадки увидел Карпов, он удивился и сказал: "Как хорошо ты поработал!" А ведь все мои сборы той поры можно по пальцам пересчитать, тогда как Анатолий Евгеньевич на этой работе всю жизнь. Перед самым чемпионатом я за свой счет отправился отдохнуть в Сочи, по утрам и вечерам купался в море, а днем ездил на Мемориал Чигорина. Смотрел, как играют наши гроссмейстеры, наблюдал за выступлением молодого талантливого Яна Тиммана, и мне казалось, что я играю не хуже! В первом туре мне предстояло играть черными со Львом Полугаевским. Перед стартом я испытывал колоссальное волнение, и мне единственный раз в жизни приснился шахматный сон. Вот я играю черными с Полугаевским, он почему-то пошел 1.е4, я ответил 1…с5, и после 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd 4.N:d4 Nf6 5.Nc3 e5 он вдруг берет конем d4 мою пешку е5, а второй конь с f3 его защищает!! Я остаюсь без пешки, в холодном поту от ужаса просыпаюсь и понимаю, какой же бред мне приснился! Любопытно, что когда через 7 лет я помогал Полугаевскому на его матче против Корчного в Буэнос-Айресе, Льву Абрамовичу приснился ход 8.Nh4 в новоиндийской защите (после 1.Nf3 Nf6 2.c4 b6 3.g3 e6 4.Bg2 Bb7 5.0-0 Be7 6.d4 0-0 7.d5 ed). Причем это я ему насоветовал пожертвовать Корчному пешку, а он мне возражал: "Женя, ты не понимаешь, Виктору нельзя жертвовать пешку!" Я отвечал: "Это ваш единственный шанс победить". Так он выиграл две партии этим вариантом: вначале сыграл 8.Nd4, как я советовал, а потом ему приснился ход 8.Nh4! А в нашей партии наяву Полугаевский избрал, как обычно, 1.d4, мы разыграли меранский вариант. Его метод игры я до сих пор считаю одним из сильнейших за белых. Тем не менее, мне удалось достаточно легко уравнять позицию. А ведь Полугаевский был тогда одним из сильнейших шахматистов мира, участником матчей претендентов.
Выиграл турнир Спасский. Будучи чемпионом мира, он не раз позволял себе "неправильные", с точки зрения советского руководства, высказывания. Однажды на лекции в Новосибирске его спросили - почему Керес не стал чемпионом мира. Тысячной аудитории он ответил: "У Кереса, как и у его страны, несчастливая судьба". Еще бы! На пятьдесят с лишним лет Эстония стала объектом неблаговидной политики КПСС. Известен был и случай, когда Спасский отказался подписать письмо за освобождение Анжелы Дэвис. Кто такая была эта негритянская женщина, я сейчас уже не помню, помню лишь, что в свое время советские развязали шумную кампанию за ее освобождение. Выиграть турнир Спасскому было необходимо. Мне показалось, что он надорвался: отдал всю энергию, без остатка. Это был спортивный подвиг. Колоссальный успех! Но последний в карьере...
Еженедельник "64" активно освещал 41-й чемпионат СССР, а после его окончания победитель турнира Борис СПАССКИЙ ответил на вопросы будущего главного редактора этого издания Александра РОШАЛЯ. Приводим небольшой фрагмент интервью: На страницах "64" выступили и некоторые другие участники звездного чемпионата: Анатолий КАРПОВ: Виктор КОРЧНОЙ:
Лев ПОЛУГАЕВСКИЙ: Борис СПАССКИЙ - Владимир ТУКМАКОВ1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Nbd7 8.Qf3 Qc7 9.0-0-0 b5 10.Bd3 Bb7 11.Rhe1 Qb6 12.Nb3 b4 13.Na4 Qc7 14.Nd4 Be7 15.Qh3 Nc5 16.Nxc5 dxc5 17.Nxe6 fxe6 18.Bc4 Rd8 19.Qxe6 Rxd1+ 20.Rxd1 Rf8 21.Bxf6 Rxf6 22.Qg8+ Bf8 23.g3 Bc8 24.e5 Rb6 25.Qxh7 Be6 26.Qg6+ Qf7 27.Qe4 Qc7 28.h4 Bxc4 29.Qxc4 Qc6 30.b3 g6 31.Qe2 Qe6 32.h5 Rb7 33.Qe4 Rg7 34.hxg6 Qxg6 35.f5. Черные сдались. Борис СПАССКИЙ - Наум РАШКОВСКИЙ1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Qc7 8.Bd3 Nbd7 9.Qe2 b5 10.0-0-0 Bb7 11.Rhe1 Be7 12.e5 dxe5 13.fxe5 Nd5 14.Bxe7 Nxc3 15.Qg4 Nxd1 16.Nxe6 Qc6 17.Nxg7+ Kxe7 18.Qg5+ f6 19.exf6+ Kd8 20.f7+ Kc7 21.Qf4+. Черные сдались.
|
|
|