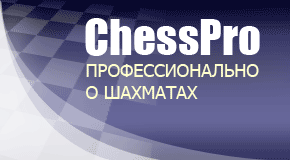Лев АННИНСКИЙ
|
|
|
Родился в 1934 г. в Ростове-на-Дону.
В периодической печати публикуется с 1955 г. Окончил МГУ.
Работал в "Литературной газете", журнале "Знамя". Член редколлегии журнала "Дружба народов" (с 1993).
Литературный критик, эссеист, публицист.
Автор более чем 20 книг, автор и ведущий циклов передач "Серебро и чернь", "Медные трубы" на телеканале "Культура".
Член Международного Пен-клуба, Антидиффамационной лиги (с 1993), комиссии по Государственным премиям при президенте РФ (с 1997).
|
 ГОЛОСА ГОЛОСА
|
|
|
 |
Лев АННИНСКИЙ,
писатель |
ХОДЫ И ГОДЫ |
Мне и в голову не приходило осмыслять решения в терминах шахмат. Хотя "ходы" знал с детства. Отсутствовал главный стимул: победа. Мне никогда никого не хотелось "победить". При малейшем намёке на соперничество я оставлял поле боя (все 64 поля) конкурентам: возьмите и отстаньте! Я даже "ничью" не воспринимал: "ничьё" - значит "не моё", а не моё меня не интересует.
Что же до категории "расчёта", составляющего прелесть шахматного мышления, то и здесь была странность: по всем тестам выходило, что у меня мышление "абстрактно-логическое", а по жизни я полагался на интуицию, на чутьё, на "звериный инстинкт" безопасности, и чем дальше, тем яснее сознавал это.
Так что вряд ли я впишу повороты моей судьбы в шахматные ходы. Разве что в шутку.
Первый эпизод - лето 1941 года.
Отец на фронте, мы с матерью в эвакуации, в Свердловске, у родственников. Все работают. Мне семь лет, сидеть со мной дома некому, надо меня записывать в школу, а в школу записывают с восьми.
Мать договаривается в той школе, где сама устраивается преподавать в старших классах, чтобы меня "под её ответственность" взяли в первоклашки. Мне назначают вступительный экзамен. Незнакомые строгие тёти велят читать вслух толстую книгу. Позднее мать рассказала, что подложили мне "Мать" Горького. Я с трудом разбираю слова, не понимая смысла. Наконец, книгу у меня забирают и задают вопрос по общеполитической подготовке:
- Кто такой Калинин?
- Это вождь… который раздает ордена! - выпаливаю я залихватски.
Общий смех разряжает ситуацию. Я принят!
Не напоминает ли это что-то шахматное? Ход конём. Мне предлагают на е2-е4 ответить е7-е5, а вместо этого из моего угла доносится весёлое ржанье.
Пять лет спустя… лето 1946 года: очередной вступительный экзамен. Я уже три года учусь в московской школе, на окраине, среди "громил" и "хулиганов". Мать мечтает перевести меня в школу "поприличнее"; одна такая школа на примете есть: знаменитая 330-я, где уже учится мой двоюродный брат. Там по-родственному согласны принять, но загвоздка - язык: я учил немецкий, а тут нужен английский. Поставлено условие, чтобы быть принятым в шестой класс, я должен сдать английский за пятый.
Времени на переучивание - месяц.
Мать кидается к знакомым и находит в нашем мосфильмовском доме режиссершу, которая когда-то постажировалась в Голливуде, а теперь скучает в простое. Не знаю, сколько мать заплатила ей за мои уроки, думаю, что по нашим возможностям немало. Так или иначе, с середины июля вместо каникулярного футбола и дворового праздношатания я получил ежедневный час беглого диалога с длинной тощей режиссершей, которая, сдвинув сигаретку в угол рта и предупредив: "Ни слова по-русски!" - натаскивала меня по кухонно-комнатной и прочей прикладной тематике. На предметы она указывала пальцем и ревностно следила за темпом и интонацией. Запас слов наращивался по ходу игры.
В последних числах августа мать повезла меня в Большой Казённый. В вестибюле знаменитой 330-й нас уже ждала тамошняя "англичанка", оказавшаяся миловидной молодой женщиной. Она пригласила меня подняться на второй этаж в класс и на середине лестничного марша вдруг быстро спросила по-английски, как меня зовут. Я ответил. Она посмотрела на меня внимательнее и так же быстро спросила, кто меня тренировал. "Соседка", - ответил я (слова "репетитор" я не знал). Третий вопрос был покаверзнее: "Англичанка или американка?" Я представил себе сигаретку, сдвинутую в угол рта, и определил: "американка".
На этом экзамен кончился, и, не дойдя до класса, мы повернули обратно в вестибюль, Там мать ждала нас с букетом цветов. Сгорая от смущения, я взял букет и преподнёс его учительнице, произнеся слова благодарности в темпе и в интонации.
Потом мы с братом подсчитали, сколько секунд длилось моё испытание. Он определил:
- Блиц.
Я не сразу понял. В ту пору слово "блиц" я знал только в сочетании со словом "криг".
Немецкий можно было выбросить из головы.
Ещё пять лет спустя… Лето 1951 года. Окончив школу с золотой медалью, я подаю документы на филологический факультет МГУ и усаживаюсь для собеседования перед аспирантом Анатолием Бочаровым и комсоргом Юрием Амиантовым. После душевной беседы о Маргарите Алигер и Павле Антокольском следует вопрос по грамматической подготовке:
- "Ехать" - какой корень?
- Ех! - выпаливаю я залихватски.
- А "еду"?
- Ед, - говорю я менее уверенно.
- А "поезжай"? - Бочаров выпускает в меня клуб табачного дыма.
- "Езж", - доигрываю я партию.
- Но ведь корень должен быть один? - интересуется Бочаров, прорисовываясь сквозь дым проницательной улыбкой.
- Но тогда… корень исчезает, - пускаю я последний пузырь.
- Отнюдь. Корень - "е"!
С чем Бочаров меня и отпускает, а я иду забирать документы.
Следом за мной выходит Амиантов:
- Нам надо поговорить о твоей комсомольской нагрузке на первый семестр.
- Какой семестр?! Я ж срезался! Мат!
- Не дури. Это не мат, это пат, - говорит он загадочно и протягивает мне руку.
Ещё пять лет спустя… лето 1956 года.
Вступительный экзамен в аспирантуру. Я получаю вопрос: "Советская поэзия 20-х годов".
Соображаю… вернее, соображать мне уже некогда - срабатывает рефлекс спасения: если я продолдоню про Маяковского и Есенина, получится школьный лепет; Блок и Гумилёв не помогут - по разным причинам. Тихонов, Сельвинский, Пастернак?.. На первом далеко не уедешь, второго я не воспринимаю, третьего побаиваюсь, да и знаю плоховато. Я вообще всё это плоховато знаю… а еще насыплют имён: Орешина какого-нибудь, Нарбута, Шкапскую… Катастрофа! Надо срочно спасаться… заслониться кем-нибудь… О! Бухариным! Его доклад на писательском съезде прочитан позже, в 1934-м, но посвящён именно поэзии 20-х годов, и доклад блестящий, о нём можно без конца говорить (и изучил я этот доклад совсем недавно, когда Бухарина "открыли" для чтения). Надо только предварительно объяснить уважаемым членам приемной комиссии, почему я считаю возможным опереться на такую спорную фигуру, как Бухарин… Ведь вот Ленин критично относился к Бернштейну, но и у него…
Уважаемые члены приемной комиссии смотрят на меня большущими глазами, слушают эту адвокатскую речь и не прерывают, а я жду, когда же прервут…
Кажется, это "связка"? Могут шахануть, да какой-то офицерик стоит на диагонали… со своим докладом на съезде.
По снисхождению мне ставят четвёрку. Но сообщают по комсомольской линии, что за пять лет учёбы я так и не разобрался в том, кто такой Бухарин.
Аспирантура накрывается. Я забираю документы и устраиваюсь репортером в глянцевый журнал с картинками. Шахматная партия моей литработы начинается с нуля. Е2-е4!
18.07.2006
|
|