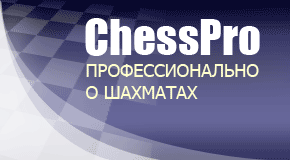|
|
Заноздра – Смыслов
(III Всесоюзный турнир пионеров и школьников, Ленинград, 1938 г.)
1.e4 c6 2.Nf3 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.d4 Ngf6 6.Nc3 e6 7.Bd3 Be7 8.0-0 c5 9.dxc5 0-0 10.c6 bxc6 11.b3 Qc7 12.Bb2 Rd8 13.Qc1 Bb7 14.Re1 Bd6 15.Qg5 h6 16.Qh4 Ne5 17.Ne4 Nfd7 18.Nxd6 Nxd3
19.Nxf7 Nxe1 20.Nxh6+ gxh6 21.Qg4+ Kf7 22.Qg7+ Ke8 23.Ne5 Nxe5 24.Qxc7 Nxc2 25.Rf1 Ba6 26.Bxe5 Bxf1 27.Qxc6+ Kf7 28.Kxf1 Rac8 29.Qb7+ Kg6 30.g4 1–0
Не менее тепло складывались отношения и с Дэвиком Бронштейном, хотя они носили совсем другую окраску хотя бы потому, что, в отличие от Заноздры, Бронштейн был на два года младше Любы. Тем не менее, при общении она этой разницы совершенно не чувствовала – Дэвик как-то очень быстро повзрослел, чему, по всей вероятности, немало «поспособствовал» арест отца, о котором он никому не рассказывал.
Несколько раз юный Бронштейн вгонял в краску нашу героиню, деликатно и, как правило, без свидетелей уличая ее в маленьких слабостях.
«В клубе сразу осуждалось любое непорядочное поведение ребят. Я сейчас неохотно вспоминаю случай, когда сама поступила непорядочно, желая представить себя в лучшем свете, тем более, что получила «осечку» от Дэвика Бронштейна. Случилось это так: кто-то из ребят принес трудную конкурсную математическую задачу. В клубе многие отлично справлялись в школе с точными науками. Решали задачу упорно, но ничего не получалось. Мне очень хотелось блеснуть своим «превосходством» над мальчиками. Дома я показала задачу папе, который, конечно, быстро показал мне решение. В следующее посещение клуба я принесла решение задачи, сказав, что я ее сама решила. Не успела я услышать похвалу в свой адрес, как раздался чей-то голос: «Это ей папа решил!». Я очень не хотела быть посрамленной и отрицала папино вмешательство. При закрытии клуба ко мне подошел Дэвик и спросил: «Ты сама решила задачу?». Я чуть-чуть помолчала, а потом выдавила из себя: «Нет!». Дэвик сказал: «Нехорошо!».
Однажды после занятий Дэвик пошел ее провожать под предлогом, что ему надо еще «по делу» зайти на Печерск. «Это было для меня как «восхитительный обман». А я, как любопытная барышня, решила еще в этом убедиться и постаралась подсмотреть из парадного подъезда, в какую сторону пойдет Дэвик». О результатах наблюдений Любовь Иезекиилевна в своих записках умолчала, но ее дочь Инна помнит, как та неоднократно рассказывала, что Дэвик тут же бегом помчался вниз по Лютеранской, т.е. в сторону, противоположную от Печерска.
Впрочем, предугадать поступки будущего великого шахматиста уже в ту пору не всегда представлялось возможным, в чем Люба тоже имела возможность убедиться:
«Помнится, как-то он пошел провожать меня из Дворца пионеров. Мы уже дошли до моей улицы Лютеранской, а он продолжает идти дальше, на Печерск, минуя Лютеранскую. Я спрашиваю: «Дэвик, ты же сказал, что идешь меня провожать?». А он отвечает: «А мне надо туда!» и показывает вперед. Признаться, я тогда это восприняла как обиду...».
ПРОЩАНИЕ С ДЕТСТВОМ
Помимо официальных турниров, за пять лет существования клуба его команда провела целый ряд товарищеских матчей со сверстниками из разных уголков страны. За 1936–1941 гг. ребята померились силами с юными шахматистами Одессы, Днепропетровска, Харькова, Чернигова, Минска, Сталино (ныне Донецк), Запорожья, Гомеля. В 1939 году команда клуба предприняла поездку на Кавказ, где скрестила оружие со сверстниками в Баку, Тбилиси и Ереване (в котором и была сделана одна из приведенных ниже фотографий).

Ереван, июль 1939. Команда Киевского Дворца пионеров. Стоят (слева направо): Толя Банник, Изя Липницкий, Набатников (шашист), Рафа Горенштейн; сидят: Ханан Мучник, Лева Моргулис, Клара Ковалева (шашистка), Семен Натов, Люба Коган, Дэвик Бронштейн (из архива Л.Якир)

Киев, 1940 г. Шахматно-шашечный клуб Дворца пионеров. Нижний ряд (справа налево): Д.Бронштейн, К.Ковалева (шашки), С.Саускан, С.Натов (шашки), А.Константинопольский, М.Усачий. Крайний слева – Л.Моргулис. В среднем ряду третий справа – И.Куперман (из архива Л.Якир).
Но особо принципиальными были шахматно-шашечные поединки с москвичами и ленинградцами. В августе 1938 года киевляне с блеском реваншировались за неудачи в предыдущих матчах – 15,5:6,5. Правда, поединок шахматисток пришлось отменить по курьезной причине: «Москвичи привезли в составе команды 19-летнюю девушку, забыв, очевидно, что совершеннолетние не допускаются к участию в детских соревнованиях» – писала 5 сентября газета «64».
Также большой резонанс вызвала встреча детских клубов Киева и Ленинграда в 1940 году. Ленинградцы к тому моменту выиграли первенство Союза, а киевляне стали чемпионами Украины. Обе команды состояли исключительно из шахматистов и шашистов первой категории, имена которых уже не раз упоминались в печати. Вот как описывал это событие Б.Ратнер в «64» от 6 апреля:
«В конце марта в Киеве состоялся двухдневный матч между сборными командами школьников Киева и Ленинграда. Встреча эта вызвала большой интерес киевских ребят и показала высокий класс игры участников.
Первый день матча закончился со счетом 7:3 (4:2 по шахматам и 3:1 по шашкам) в пользу Киева. Судьба встречи, по сути, уже была предрешена. Второй день матча начался также под знаком преимущества киевлян по шахматам (4,5:1,5). В шашки ленинградцы взяли реванш – 2,5:1,5.
В итоге упорная борьба закончилась победой киевлян с результатом 8,5:3,5 по шахматам и 4,5:3,5 по шашкам.
Лучших индивидуальных успехов по шахматам добились киевляне: Моргулис, Липницкий и Люба Коган, выигравшие обе партии. По шашкам – Куперман, набравший 1,5 очка. У ленинградцев шахматисты – Черепанов и Вишняцкий – набрали по полтора очка.
Убедительная победа киевлян свидетельствует о большой и плодотворной работе по повышению квалификации, которая проведена в Киевском дворце пионеров (руководители шахсекции мастера Константинопольский и Натов).
Матч был хорошо организован и прошел в теплой товарищеской обстановке».
В конце 1939 года Л.Коган впервые приняла участие в женском чемпионате Украины. Дебют удался – Люба поделила 3-5 места. А победительницей вышла талантливая пятнадцатилетняя одесситка Сара Слободяник, умершая вскоре от тяжелого заболевания. Второе место досталось прошлогодней чемпионке Тамаре Добровольской.
Между тем, время не стояло на месте – расставание с детством происходило не только в шахматах. Один за другим, окончив школу, уходили во взрослую жизнь первые воспитанники клуба. Поступили в Киевский медицинский институт Алла Рубинчик и Николай Заноздра, Ханан Мучник стал курсантом артиллерийского училища в Ленинграде, шашист Набатников ушел служить в Красную Армию, Исаак Липницкий в 1940 году стал студентом исторического факультета Киевского государственного университета. В том же году закончила с отличием школу Люба Коган и была принята на первый курс механического факультета Киевского политехнического института.
«Началась сложная студенческая жизнь. Приходилось прилагать немало усилий, чтобы освоить новые предметы: высшую математику, начертательную геометрию и пр. В редкие свободные часы раскрывала шахматный учебник Рихарда Рети, который мне однажды подарил Дэвик Бронштейн. Несколько раз приходил ко мне домой Изя Липницкий, брал у нас из домашней библиотеки книги, нужные ему, как студенту исторического факультета университета, в котором он поступил на первый курс. Изя рассказывал мне о шахматной жизни во Дворце пионеров, с которым он поддерживал связь. В это время проходило первенство Киева среди школьников. Первое место без единого поражения занял Бронштейн, второе – Абрам Хасин.
Во втором семестре я тяжело заболела – воспаление легких. Мне оформили академический отпуск до следующего года, т.е. я стала «второгодницей». Я неимоверно переживала, выздоравливала очень тяжело. Помню, папа меня успокаивал, что, мол, даже Антон Чехов оставался на второй год из-за русского языка».
Но наступило 22 июня 1941 года...
В ЭВАКУАЦИИ
Вскоре после начала войны все шесть женщин большой семьи (мать, все четыре дочери и племянница) были эвакуированы на Урал:
«Как только началась война, папа (единственный среди нас мужчина) принял решение отправить всю семью в Свердловскую область. Мы оказались в деревне Билимбай недалеко от самого Свердловска. Во время войны я в Свердловске поступила в Уральский политехнический институт (в котором позднее учился Борис Ельцин). Там мы и пробыли до освобождения Киева, а потом поспешили вернуться в родной город. Пожалуй, даже слишком торопились, поскольку когда мы вернулись, военная обстановка была еще неспокойной. Но все обошлось».
Многое в этих скупых словах, прозвучавших в одной из наших бесед, осталось «за кадром». К счастью, в своих письменных воспоминаниях Любовь Иезекиилевна рассказала об этом периоде своей жизни более обстоятельно:
«С шахматами я на Урале не расставалась. Один раз наш УПИ играл матч со Свердловским университетом. Я была единственной девушкой в матче и выиграла свою партию. Об этом упомянули в газете «Уральский рабочий». Выезжая на колхозные работы, я обязательно брала с собой комплект шахмат».
Случались в эвакуации и неожиданные встречи:
«Где-то на исходе зимы 1942 года, идя за хлебом, я встречаю около института на Шарташе (район близ института) Леву Моргулиса. Радость безмерная. Лева от купленного хлеба отламывает мне и себе по корочке. Затем мы встречаемся часто. А однажды после получения хлеба я забываю у продавца хлебные карточки. Обнаружив это в общежитии, я пришла в отчаяние. В тот же день после занятий мне приносят утерянные карточки с запиской Левиным почерком: «Киевлянке от киевлянина. Это тебе не ферзя подставить!». С Левой в Свердловске мы встречались еще много раз, до моего отъезда в Киев».
Последняя фраза представляется весьма существенной, поскольку о судьбе Моргулиса (того самого «красивого мальчика», так запомнившегося Капабланке) в литературе фигурируют различные версии. Так, Ефим Лазарев в своей книге «Творчество шахматистов Украины» (на украинском языке, 1982 г.) пишет, что тот погиб на фронте, Давид Бронштейн («Давид против Голиафа», 2002) просто упоминает, что «Лева умер во время войны совсем молодым из-за болезни сердца», а Вадим Теплицкий («Капабланка пожал мне руку», 2003) утверждает, что «Лева безвременно скончался в 1941 году, уже в эвакуации, в возрасте семнадцати лет». Однако, по словам Л.Якир, «на самом деле Моргулис был еще жив в 1944 году, когда я уезжала в Киев».
Иногда давал знать о себе и Изя Липницкий, проходивший длительную военную подготовку в Томске (сначала он был курсантом в артиллерийском училище, а потом несколько месяцев готовился к службе в разведке, в которой впоследствии и провоевал до самого конца войны, дослужившись до звания майора):
«В какой-то учебный день меня разыскал молодой военный по фамилии Бернацкий с приветом от Липницкого. А в другой раз я оказалась неожиданно и приятно удивлена. Меня позвал охранник нашего общежития: Идите, спускайтесь вниз, там вам кто-то что-то прислал. Я спустилась и увидела, что это Липницкий прислал мне теплые варежки, оказавшиеся очень кстати, потому что зима тогда была суровой».
ВОЗВРАЩЕНИЕ К МИРНОЙ ЖИЗНИ: РАДОСТИ И ОГОРЧЕНИЯ
В начале 1944 года семья возвратилась в Киев. Квартира и почти вся улица были разбомблены. Киев лежал в руинах. «Нашей семье предоставлена одна комната в дезинфекционной станции. Опять голод и холод. Мужчин в нашей семье нет: папа погиб под Киевом в отрядах ополчения, муж сестры погиб на фронте под Харьковом. Меня зачисляют на четвертый курс киевского Политеха. У меня часто не было сил посещать занятия в институте. И вдруг в моем настроении произошли изменения.
На первой лекции по холодной обработке металлов лектор Сергей Сергеевич Рудник, проверяя по журналу список присутствующих, говорит, обращаясь ко мне: «А вы, по-моему, дочь Иезекииля Марковича Когана? Я был его учеником. А в шахматы вы еще играете?». После этого я почувствовала, что опять прикоснулась к тому, что продолжало неотступно волновать. Говорили о моем отце, о шахматной жизни в довоенном Киеве, о шахматно-шашечном клубе на ул. Ленина, 8. Оказалось, что Сергей Сергеевич имел до войны первую категорию, участвовал в первенствах Киева, хорошо знал Александра Марковича Константинопольского, упомянул Анатолия Банника и Давида Бронштейна. В тот момент я еще не знала о судьбах моих ровесников и учителей. С этих пор я с интересом посещала лекции профессора Рудника, а вскоре сам Сергей Сергеевич после занятий (если он был свободен) предлагал мне сыграть партию в шахматы. Запомнилось, что счет наших встреч был в пользу Сергея Сергеевича».
Перемены в настроении оказались весьма кстати, поскольку в начале 1945 года нашей героине довелось принять участие в своем первом послевоенном турнире и занять в нем второе место, пропустив вперед лишь старшую коллегу Берту Вайсберг. После этого их обеих пригласили в полуфиналы всесоюзного первенства, которые, как и последующий финал, проходили в Москве.
Дорога в столицу надолго запомнилась Любе, правда, не совсем обычным образом:
«В нашем купе оказался киевский журналист Головня. Узнав от Берты Иосифовны о цели нашей поездки и не опознав меня, он начал бойко рассказывать, что в Киеве лучше всех среди женщин в шахматы играет некая Люба Коган, и далее, что она на вид маленькая, тощая, а, мол, играет хорошо. Услышав такое, я почувствовала себя уязвленной в своих женских чувствах, вышла в тамбур и хорошо наплакалась. В тот момент мне было гораздо важнее, чтобы Головня более похвально оценил мою внешность, чем шахматное умение. Впоследствии мне довелось встречаться с Головней не раз, а в пятидесятые годы он даже напечатал статью обо мне и фото в журнале «Радянська жінка» («Советская женщина»)».
Обе киевлянки в своих полуфинальных группах заняли 9-11 места, набрав по 5 очков из двенадцати. Поскольку выходящих мест в каждом турнире было всего пять, в финал они не попали, но дебют Л.Коган в турнирах такого уровня был отмечен П.Романовским в статье по итогам чемпионата («Шахматы в СССР», №1, 1946):
«Из участниц, не попавших в финал, следует отметить ростовчанку Биглову, показавшую весьма инициативную творческую игру, далее представительницу Узбекской ССР Дмитрук и особенно молодую киевлянку Коган.
Последняя, начав турнир с пяти нулей, казалось, должна была потерять всякий спортивный интерес к борьбе. Однако в последующих семи турах Коган одержала 5 побед (и все в превосходном стиле!), в том числе три над финалистками (Руденко, Игнатьева, Заргарян)».
Петр Арсеньевич привел победу Коган над будущей чемпионкой мира с краткими комментариями.
Руденко – Коган
(Полуфинал VIII первенства СССР, 1945 г.; комментарии П.Романовского)
1.d4 Nf6 2.Nf3 d5 3.e3 Bg4 4.c4 e6? 5.Qb3 b6? Не искушенная в позиционных тонкостях, Коган, ослабляя пункт c6, делает ошибку. Необходимо было либо 5...Qc8 , либо 5...Nc6 6.Qxb7 Nb4. Белые, правда, стоят уже лучше, так как и 4-й ход черных с дебютной точки зрения не являлся достаточно точным. Правильным было 4...c6. 6.Ne5 dxc4? И сейчас еще меньшим злом было 6...a6 , предупреждая шах слоном на b5. 7.Bxc4. Теперь кроме 8.Bb5+ грозит 8.Nxg4 Nxg4 9.Bxe6. Играя 7...Qd6 , черные могли бы защититься от обеих угроз, но позиция их при этом оставалась явно неудовлетворительной. 7...Bf5 8.Bb5+ Nbd7. Несколько лучше было 8...Nfd7. 9.Bc6 Rb8 10.Bxd7+. Белые продают свое преимущество за чечевичную похлебку. Продолжение 10.Nxd7 Nxd7 11.e4 Bg6 12.Nc3 Be7 13.Qa4 ставило черных перед непреодолимыми трудностями. 10...Nxd7 11.Nc6 Qg5! Начиная отсюда, Коган проводит контратаку в отличном стиле. 12.Nxb8 Qxg2 13.Rf1 Nxb8 14.Nd2 Qxh2. У черных две пешки за качество, и они могут уже немного передохнуть после дебютных потрясений. 15.f3? Необходимо было играть 15.Nf3 Qh3 (белые, видимо, опасались 15...Qg2 , не замечая возможности 16.Nh4) 16.Ne5. 15...Be7! 16.Kd1 0-0 17.e4 Bh3 18.Re1 Bh4 19.Re2 Qg1+ 20.Kc2.
20...c5! 21.dxc5 Rc8! 22.Re3 Bf6! Все это сыграно превосходно. 23.Rc3. От угрозы Rxc5+ у белых не было другой защиты, но теперь черные, отыгрывая качество, остаются с двумя лишними пешками и лучшей позицией. 23...Bxc3 24.bxc3 Qxc5 25.Ba3 Qf2 26.Rd1 Nc6 27.Kb1 e5! 28.Qc2 Be6 29.Bb2 Nb4. Ненужный рейд, который, впрочем, ничего не портит. Проще всего было 29...Bxa2+ 30.Kxa2 Nb4+. 30.Qa4 Nc6 31.Bc1 h5 , и черные постепенно реализовали свое позиционное и материальное преимущество.
Москва подарила ей целый ряд радостных встреч, напомнив заодно и довоенное шахматное детство во Дворце пионеров:
«На один из туров пришел Дэвик Бронштейн. Встреча с ним была радостной. Моей противницей в тот день была Ольга Игнатьева. Дэвик очень внимательно следил за нашей партией, а я, не очень догадливая, полагала, что это связано с тем, что Дэвик переживал и хотел, чтобы я сыграла результативно. Партия была отложена с лишней пешкой у меня, и я после партии бойко попросила Дэвика, чтобы он мне пошлифовал отложенную позицию. Дэвик посмотрел на меня, улыбнулся и промолчал. Я заметила что-то необычное в его взгляде. Потом Дэвик помог мне и Оле надеть пальто, и мы втроем начали спускаться по лестнице. По дороге остановились у газетного киоска. Дэвик попросил у продавца тоненькую книжку рассказов Марка Твена мне в подарок, а Оля выбрала себе газету и сказала: «Дэвик, расплатись, пожалуйста». Сразу стало ясно, что Оля хозяйка в нашем трио.
В тот же вечер мне позвонил Александр Маркович Константинопольский и предложил прийти к нему утром, чтобы помочь мне в разборе отложенной с Ольгой партии. Утром у Александра Марковича я застала Дэвика и Бориса Вайнштейна. Дэвик старался не вмешиваться в анализ моей партии, которую я вечером того же дня выиграла у Ольги Игнатьевой.
…В один из последних туров я вышла из гостиницы одна с намерением поехать к моей родной тете на ул. Новослободскую. Дэвик догнал меня, мы вместе дошли до метро и Дэвик предложил проводить меня до станции «Павелецкая». На станции мы вышли из поезда, сели на скамейку. Дэвик сказал мне, что я играю очень плохо, что необходимо много работать над чужими и своими партиями, почему-то вспомнил учебник Рети. Мне было обидно слышать резкую оценку моей игры, я оправдывалась тем, что сейчас передо мной стоит задача успешно закончить институт. Дэвик спросил, не оставался ли кто у меня в Киеве во время немецкой оккупации. Затем он рассказал о том, что наконец его отец вышел из сталинских лагерей. Мне стало понятно, почему во время нашей довоенной дружбы Дэвик часто бывал грустным, но никогда не рассказывал о судьбе отца. Я с болью рассказала о гибели моего отца в киевском ополчении, о гибели мужа моей сестры. На грустной ноте мы и расстались, я вышла из метро, а Дэвик поехал в обратную сторону.
В Киев я вернулась самолетом, а в полете думала о том, что сохранились звенья, соединяющие меня с прошлым. Киев был еще неуютным, не восстановленным после войны. Из Москвы я привезла несколько килограммов пшена, переданных мне тетей Сусанной, родной маминой сестрой, и вся наша женская компания вскоре наслаждалась вкусной пшенной кашей».
ШАХМАТЫ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ И СЮРПРИЗ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ
Через некоторое время Любовь Коган снова оказалась в Москве – на этот раз на институтской преддипломной практике на Московском инструментальном заводе. Собирая материал для дипломной работы на тему «Цех по производству зубчатых колес», киевская студентка не забывала и о шахматах (тем более, что, по ее словам, «даже тогда хитрые колеса не занимали в моей голове столько места, сколько шахматные фигуры»). Наведавшись в Комитет по физкультуре и спорту (чтобы подписаться на журнал «Шахматы в СССР»), она встретила там Константинопольского и Романовского, причем Петр Арсеньевич предложил Любе присоединиться к московским шахматисткам, с которыми он регулярно проводил занятия у себя на квартире. Приглашение было с благодарностью принято.
1946 год у нашей героини оказался весьма успешным – дел было много, но времени, как ни странно, на все хватало. На очередном полуфинале VII всесоюзного первенства в Ростове-на-Дону она разделила 2-4 места с Бигловой (Ленинград) и Тихомировой (Ростов), на очко отстав от москвички Крезберг. Из киевского «десанта» лишь Коган сумела попасть в заветную выходящую шестерку, в то время как остальные участвовавшие в этом полуфинале киевлянки – Вайсберг, Махиня и Рубинчик остались за бортом.
Весной состоялась досрочная защита диплома, а конец года ознаменовался дебютом в VII первенстве страны, снова проходившем в Москве. Первый блин вышел комом – предпоследнее 16-е место с тремя очками из 16-ти. Впрочем, объяснялось это не только естественным волнением дебютантки. Была также иная причина:
«Играла я плохо, поскольку очень была огорчена еще и тем, что перед отъездом в Москву получила назначение на работу в качестве инженера-технолога в г. Кострому. Это не сулило ничего хорошего для ближайшего будущего нашей большой материально необеспеченной семьи и отрывало от шахмат. Перед отъездом из Москвы я отправилась в Министерство Стройдормаша, чтобы получить официальный документ на костромской завод. Я сидела в приемной и терпеливо ждала, чтобы кто-нибудь вынес эту бумагу, когда вышел какой-то мужчина и спросил, чего я здесь жду. Я ответила, что пришла за направлением. «А вы откуда?» – «Из Киева» – «А в Киев вы не хотите?». Я обомлела от неожиданности: «Конечно, хочу!!!». Он тут же зашел обратно в кабинет и вернулся с направлением на «Красный экскаватор» – там требовался инженер-технолог. Так я и осталась после института работать в родном городе. Правда, должна сознаться, что работа не приносила мне особого удовольствия».
На заводе нашлись любители шахмат, просившие сыграть с ними партию или помочь в решении шахматных композиций, помещенных в газетах. Оживлялась и шахматная жизнь в целом по республике. Все это создавало благоприятную почву для дальнейшего шахматного совершенствования:
«Я стала уделять время анализу шахматных позиций под руководством Липницкого, возвратившегося из Германии. Несмотря на занятость по работе, мне удалось успешно сыграть в первенстве ЦС «Наука», в первенстве Киева, первенствах Украины. Так я оказалась почти бессменным членом сборной Украины на женской доске. Последовали выезды на всесоюзные командные соревнования, спартакиады, профсоюзные первенства и прочие ответственные турниры. Встречи с гигантами шахматной игры, знакомство с ними удивили меня не только высочайшими спортивными достижениями, но и высокой общей культурой в разных областях знаний».

Сборная Украины в Моршине, 1948 г. Верхний ряд (слева направо): Алла Рубинчик, Борис Ратнер, Исаак Липницкий, Ляля Лещинская (жена Липницкого), Анатолий Банник, Иосиф Погребысский, (?). Второй ряд: две неизвестные дамы, Эсфирь Гольдберг, Любовь Коган, Зинаида Артемьева, Берта Вайсберг, Евсей Поляк. Нижний ряд: (?), Абрам Замиховский, Юрий Сахаров, (?) (из архива Л.Якир).

На занятиях кружка киевских шахматисток. Сидят (слева направо) – Замиховский, Пятова, Артемьева, Липницкий, Вайсберг, Гольдберг. Стоят – Махиня, Коган (Якир), Сахаров, Малинова, Балаклова, Добровольская, Рубинчик (из архива Е.Лазарева).
ДВЕ РЕКОРДСМЕНКИ
С 1947 по 1954 гг. Любовь Коган сумела шесть раз стать чемпионкой Украины, причем с 1951 по 1954 гг. выиграла четыре первенства подряд! Это достижение сумела превзойти лишь семикратная чемпионка Берта Вайсберг (1911-1972), хотя и с существенными оговорками. Коган все свои республиканские титулы завоевала единолично, а Вайсберг этого успеха четыре раза добивалась «в соавторстве», причем дважды имел место дележ 1-3 мест. Но с другой стороны, достижения старшей коллеги охватывают значительно больший промежуток времени – первый титул она завоевала в 1935 году, а последний, седьмой – в 1959-м.
Л.Якир: «Берта Вайсберг была шахматисткой способной, интересной. После потери мужа воспитывала дочь и сына. Она жила в центре Киева на Крещатике, что, при ее гостеприимстве, способствовало общению и дружбе со многими шахматистами. Жила она очень трудно, работала в разных местах, а последнее время работала корректором в одном из издательств.
Внук (от сына) Матвей Вайсберг – талантливый художник, известный за рубежом».
Однажды Берте Иосифовне с сыном довелось оставить безымянный след в шахматной литературе, о чем несколько лет назад поведал киевский шахматный писатель и журналист Ефим Лазарев. Этот случай произошел, когда Исаак Липницкий готовил к печати свою книгу «Вопросы современной шахматной теории» (1956), которая, выдержав несколько десятилетий полузабвения, в последние годы была переиздана сразу на нескольких языках и стала шахматным бестселлером:
«Рукопись книги для подачи в издательство перепечатывала на пишущей машинке легендарная шахматистка Берта Иосифовна Вайсберг – семикратная чемпионка Украины (рекорд!). Вычитывал, сверял и правил тексты ее сын Сеня Вайсберг – перворазрядник, известный на весь шахматный Киев как своей феноменальной эрудицией, так и фантастическими странностями. И вот как-то приходит к ним домой Липницкий за распечатками, а Сеня ему говорит:
– Почему вы пишете, что в некоторых критических позициях не действуют никакие шахматные законы? Ведь если не действуют одни законы, значит, действуют другие!
Липницкий был в восторге! Поблагодарив Сеню, он вскоре переделал в этом плане целый раздел».
СУДЬБОНОСНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Второй раз в главном турнире страны Л.Коган смогла сыграть в 1951 году, в XI первенстве СССР, проходившем в ее родном Киеве и имевшем статус зонального турнира к первенству мира. «Домашние стены» сыграли злую шутку с нашей героиней: руководство завода настояло на ее участии в чемпионате без освобождения от работы. Это, конечно, никак не способствовало творческому настрою, и результат, к глубокому огорчению Любы, мало отличался от достижения четырехлетней давности – дележ 15-17 мест с 6,5 очками при 18 участницах. Тем не менее, предоставим читателю самому судить о том, с какими чувствами вспоминала этот турнир Любовь Иезекиилевна много лет спустя:
«Несмотря на мою неудачную игру в этом соревновании, оно сыграло решающую роль в моей жизни, в моей судьбе. Турнир посещало много киевлян. Почти ежедневно вечером после работы появлялась группа моих сотрудников, окончивших Политех через год после меня и получивших работу тоже на «Красном экскаваторе». На одном из туров после завершения партии я подошла к своим друзьям. С ними вместе оказался молодой человек, которого я когда-то примечала в стенах института, но знакома не была. Ребята меня познакомили и сказали, что он закончил литейное отделение. Начался оживленный разговор. Меня поразили светло-голубые глаза нового знакомого. Я смело высказалась по поводу необычного цвета его глаз. Ребята назвали его имя и фамилию: Николай Якир.
С того дня последовало 2,5 года дружбы с ним, когда я поражалась не только голубизной его глаз, но деликатным ухаживанием за мной, интеллигентностью, спортивностью в разных видах спорта, ознакомленностью с литературой, медициной, умением принимать сложные инженерные решения и пр. Однажды я спросила, как это он все умеет, и Ноля (домашнее имя) пояснил: «Я всю жизнь присматривался к разным видам труда». Во всех его качествах я имела счастье убедиться, прожив с ним в замужестве 50 лет».
Любовь Иезекиилевна Якир прожила долгую и счастливую жизнь, будучи неизменно окруженной любящей семьей – сначала родителями и сестрами, а впоследствии мужем Николаем, дочерью Инной с зятем Александром и внучкой Людмилой. И это при том, что в семье шахматистов более не было! Когда родилась дочь, Любови Иезекиилевне приходилось брать ее с собой на турниры, поскольку муж ввиду большой загруженности на работе не мог в достаточной мере ухаживать за ребенком. Инна Николаевна и сегодня неплохо помнит шахматисток и шахматистов, с которыми в детстве ей пришлось встречаться во время маминых поездок и о которых она и нынче вспоминает с теплотой. Тем не менее, шахматная карьера ее не прельстила: «Я насмотрелась на мучения мамы и ее коллег при подготовке к партиям, а также во время игры и при анализе отложенных позиций, и решила, что это не для меня!».

Одесса, 1951 г., полуфинал XII первенства СССР. Л.Якир и Л.Вольперт за анализом сыгранной партии (победила Л.Якир) (из архива Л.Якир).
НА ВСЕСОЮЗНОЙ АРЕНЕ
В общей сложности девять раз выходила Л.Коган, а затем Л.Якир в финал всесоюзного первенства, каждый из которых был связан с любопытными, а подчас и забавными эпизодами. Так, после окончания XII первенства СССР (1952 г.), проходившего в Тбилиси, гостеприимные хозяева пригласили ее сыграть в первенстве Грузии: «Причем предложение поступило на уровне ЦК Компартии Грузии. Я же в те годы работала на заводе «Красный экскаватор» и после окончания всесоюзного первенства должна была вернуться к своим производственным обязанностям инженера-технолога. Но раз уж это предложение поступило от таких уважаемых людей, то я ответила: «Поговорите с директором «Красного экскаватора». Первым секретарем ЦК Компартии Грузии тогда был Мжаванадзе, который тут же вызвал на телефонный разговор нашего директора и добился от того необходимого разрешения. И я осталась в солнечной Грузии поиграть в шахматы – и заняла первое место. Среди участниц этого турнира главной претенденткой на победу считалась Элисо Какабадзе, к сожалению, не так давно ушедшая от нас».
Впрочем, дальнейших подробностей Любовь Иезекиилевна в нашем разговоре старательно избегала, хотя на провокационные вопросы зачастую даже напрашивалась:
– А вас после этой победы не приглашали остаться в Грузии?
– Вы лучше спросите «кто за вами там ухаживал?»
–Так это же и имелось в виду!
– Ну... меня просили там остаться, но, скажем так, история умалчивает, кто именно. Но, кроме того, я была очень привязана к своей семье.

Тбилиси, 1952 г. Финал XII первенства СССР. Верхний ряд (слева направо): судья турнира Сорокин, В.Борисенко (Ленинград), Б.Крезберг (Москва), Н.Войцик (Москва), Т.Филановская (Свердловск), Б.Вайсберг (Киев), Л.Коган (Киев), судья Волковыский (Ленинград), О.Рубцова (Москва), С.Подвойная (Москва), Т.Махиня (Киев). Нижний ряд (сидят): Л.Вольперт (Ленинград), С.Роотаре (Таллинн), Т.Страндстрем (Москва), судья Палавандишвили (Тбилиси), Л.Руденко (Ленинград), Е.Быкова (Москва), В.Тихомирова (Москва), Е.Биглова (Ростов-на-Дону) (из архива Л.Якир).
Финал XIX первенства СССР проходил в 1959 г. в Липецке (Л.Якир уверенно отобралась в него из кишиневского полуфинала, единолично заняв первое место).

Кишинев, 1958 г. Полуфинал XIX первенства СССР (1. Л.Якир без поражений, победа над Л.Руденко). Верхний ряд слева направо: Куре (Таллинн), Орав (Таллинн), Нальтинг (Таллинн), О.Кацкова (Москва), Т.Горбулева (Баку, будущий тренер Г.Каспарова в бакинском Дворце пионеров), Н.Коноплева (Москва), Л.Руденко (Ленинград), Э.Гольдберг (Киев), Н.Колотий (Москва). Средний ряд: судья, Э.Какабадзе (Тбилиси), Л.Идельчик (Харьков), Томсон (гл. судья, Москва), Л.Якир (Киев), К.Сопровская (Москва). Нижний ряд: Б.Мосионжик (Кишинев), судья (из архива Л.Якир).
От стремительно прогрессировавшей 18-летней Ноны Гаприндашвили уже тогда ожидали многого, но этот турнир у нее не сложился (о чем она впоследствии рассказала в своей книге «Предпочитаю риск») – будущая чемпионка мира потерпела пять поражений, в том числе и от Л.Якир.
«Нона – замечательная женщина! Я с ней встречалась, когда она еще не была чемпионкой мира. И когда стала ею, ни капли зазнайства, радушная, одним словом — своя. Однажды на чемпионате СССР я у нее выиграла. Нона очень расстроилась, ее можно понять. Я вернулась к себе в номер, и вдруг врывается грузинский тренер, кричит: «Ноне плохо! Надо «скорую» вызывать!» Я быстренько прибежала к ней, она лежит зареванная. Я кричу: «Чего ты ревешь, ты у меня еще двадцать раз выиграешь!» И, как говорится, «накаркала»: не двадцать, но партий десять я ей продула».
Якир – Гаприндашвили
(XIX первенство СССР, Липецк, 1959 г.)
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 c5 4.d5 e6 5.Nc3 exd5 6.cxd5 d6 7.h3 Bg7 8.e4 0-0 9.Bd3 b6 10.0-0 Ba6 11.Bf4 c4 12.Bc2 b5 13.a3 Qb6 14.Be3 Qa5 15.Nd4 Nfd7 16.Re1 Nc5 17.Qd2 Qb6 18.Rab1 b4.
19.Na4 Qc7 20.axb4 Nxa4 21.Bxa4 Nd7 22.Bc6 Rab8 23.Ra1 Rb6 24.Bxd7 Qxd7 25.Nc6 Rxc6 26.dxc6 Qxc6 27.Bxa7 c3 28.bxc3 Bxc3 29.Rec1 Bxd2 30.Rxc6 Bb7 31.Rxd6 Bc3 32.Rad1 Bxe4 33.Bc5 1–0

Липецк, 1959 г. Финал XIX первенства СССР. Нижний ряд слева направо: К.Скегина (Минск), Н.Гаприндашвили (Тбилиси), Л.Белавенец (Москва), судья, Т.Затуловская (Баку), Н.Колотий (Москва), А.Кушнир (Москва). Средний ряд: С.Роотаре (Таллинн), В.Тихомирова (Москва), Н.Войцик (Москва), К.Гогиава (гл. судья, Тбилиси), Л.Вольперт (Ленинград), О.Рубцова (Москва), Ф.Дмитриева (Ленинград). Верхний ряд: судья, Э.Какабадзе (Тбилиси), судья, З.Нахимовская (Рига), судья, Л.Якир (Киев), А.Рубинчик (Киев), О.Семенова-Тян-Шанская (Ленинград), Т.Витковская (Винница) (из архива Л.Якир).
В 1962 году Л.Якир в очередной раз сыграла в финале первенства СССР, показав отличный результат (5-6 места с 11 очками из19), за который ей было присвоено звание мастера. Вероятно, среди прочего, Всесоюзная квалифкомиссия приняла во внимание слова В.Тихомировой в итоговой статье («Шахматы в СССР», №3, 1963 г.):
«Украинка – единственная из перворазрядниц, кому удалось войти в турнирной таблице в группу мастеров. Хотя Якир не выполнила установленную для получения звания мастера норму, но по совокупности успехов она, безусловно, его заслуживает».
Из примеров ее творчества Тихомирова выделила следующую партию, отметив, что «киевлянка продемонстрировала хорошую технику реализации позиционного преимущества в эндшпиле».
Якир – Матвеева
(XXII первенство СССР, Рига, 1962 г.; комментарии В.Тихомировой)
Черные сыграли 1...b5 в расчете на 2.Nc3 , однако Якир ответила 2.Nc5! , правильно оценив получающееся окончание с разноцветными слонами как выгодное для белых. После 2...Nxc5 3.Bxc5 a5 4.a3 a4 5.f3 Bd7 6.Kf2 Rxe2+ 7.Rxe2 черные простодушно решили достичь ничьей, разменяв еще одну ладью путем 7...Re8 (правильно было 7...Be6 , после чего исход борьбы был неясен). Далее было 8.Rxe8+ Bxe8 9.Ke3 f6 10.Kd4 Kf7 11.Bb4 g5 12.Kc5 Ke6 13.Kb6 Kd7? Проигрывает. Необходимо было попытаться активизировать фигуры ходом 13...f5 . Например, 14.g4! fxg4 15.fxg4 Ke5 16.Bd2 Kd4 17.Bxg5 c5 , и черные сохраняют хорошие шансы на ничью. 14.Bf8 g6 15.g4. По замыслу совершенно правильно, но оформлено неточно, ибо сейчас черные могли спастись путем 15...d4! Например, 16.Bc5 (или 16.Kc5 Bf7 17.Kxd4 Bd5 18.Ke3 Ba2!) 16...Bf7 17.Bxd4 Bd5 18.Bxf6 Bxf3. 15...Bf7? 16.d4 Be8 17.b3 Ke6. Или 17...axb3 18.cxb3 , и проходная пешка "a" решает. 18.bxa4 bxa4 19.Bc5 Kd7 20.Ka5 Kc7 21.Kxa4 f5 22.Kb4 Bd7 23.h3 fxg4 24.hxg4 Be8 25.Ka5 Kb7 26.Bb6 Bd7 27.Bc5 Bc8 28.c3 Kc7 29.Be7 Bd7 30.Bxg5 c5. Отчаяние. И 30...Bc8 31.Kb4 Kb6 32.Bd8+ Kb7 33.Kc5 Bd7 34.a4 вело к поражению. 31.dxc5 Kc6 32.Be7 Bc8 33.a4 Bd7 34.Bd6 Bc8 35.Kb4 Ba6. Все равно белый король проходил на g5 и решало f3-f4-f5. 36.f4 Bc8 37.f5 gxf5 38.g5 Be6 39.g6 Bd7 40.g7 Be6 41.a5 Kb7 42.Kb5 Черные сдались. На 42...Bd7+ могло быть 43.c6+! Bxc6+ 44.Kc5 , и пешка "g" проходит в ферзи.
Любовь Иезекиилевна предприняла еще несколько попыток пробиться в финал всесоюзного первенства, но с наступающей молодежью конкурировать становилось все труднее. Тем не менее, через пять лет, в 1967 году, ей еще раз довелось сыграть в главном турнире года, когда мужской и женский всесоюзный чемпионаты проводились по швейцарской системе. Лебединая песня получилась весьма достойной – дележ 11-16 мест при 74 участницах с 8 очками из 13 впереди давних соперниц Борисенко, Быковой, Зворыкиной, Рубцовой и многих молодых.
Несмотря на любовь к дому и семье, она с большим удовольствием выезжала на всевозможные соревнования, а также тренировочные сборы. Любовь Иезекиилевна почти до самого конца своих дней оставалась очень общительной, и можно представить, какой она была в давно минувшие годы. Она любила общаться отнюдь не только на шахматные темы и очень ценила великих шахматистов, с которыми ей довелось встречаться, именно за их многогранность.
«Я вспоминала прочитанные мною слова К.Паустовского о том, что гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций. Я не раз высказывала своему мужу то, что благоговею перед талантливыми людьми. Николай Вениаминович говорил, что на планете живет очень много людей, но только в единицы в смысле таланта происходит «точное попадание от Бога».
В 1957 г. женская сборная Союза проходила тренировочный сбор под Москвой в Лунево, в 10 километрах от станции Сходня. Главным тренером на сборе был Александр Маркович Константинопольский. Я попыталась высказать свое мнение о том, что, по моим впечатлениям, те мужчины-шахматисты, которые уже приобрели мировую известность, обладают не только высокой шахматной культурой, но также большими понятиями в других областях знаний. Александр Маркович не во всем со мной соглашался, но заметил, что среди некоторых уникальных личностей наиболее удивительной является личность Давида Бронштейна – по гениальности, памяти, порядочности, работоспособности».

Лунёво, сборная СССР на тренировочном сборе в Подмосковье, май-июнь 1955 г. Верхний ряд слева направо: А.Константинопольский, жена Константинопольского, жена Бонч-Осмоловского, Т.Филановская (Свердловск), С.Роотаре (Таллинн), В.Борисенко (Ленинград), Ф.Дмитриева (Ленинград), Т.Страндстрем (Москва), Ю.Гурфинкель (Волгоград), А.Константинов (мс, тренер), Т.Витковская (Винница), М.Лауберте (Рига), В.Зак (тренер, Ленинград). Средний ряд: А.Поляк (мс, тренер), К.Зворыкина (Минск), О.Игнатьева (Москва), В.Тихомирова (Москва), Л.Руденко (Ленинград), Л.Вольперт (Ленинград), О.Рубцова (Москва), Л.Якир (Киев), Р.Эстеркина (Ленинград). Нижний ряд (сидят на траве): О.Кацкова (Москва), Э.Какабадзе (Тбилиси), Т.Затуловская (Баку) (из архива Л.Якир).
Во время активных шахматных выступлений нашей героини женских международных соревнований было катастрофически мало, и естественно, что из советских шахматисток в таких условиях туда попадали лучшие из лучших. Вот и получилось, что за всю свою шахматную карьеру Л.Якир лишь однажды посчастливилось сыграть за рубежом. И то всего две партии, поскольку это был дружеский командный матч Украина – Болгария (София, 1963 г.). Выступление оказалось достаточно успешным – 1,5 очка в двух партиях против В.Асеновой.
Асенова – Якир
(София, 1963 г.)
1.e4 c5 2.Nf3 g6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nc6 5.Nc3 Bg7 6.Be3 Nf6 7.Bc4 0-0 8.Bb3 d6 9.f3 Nxd4 10.Bxd4 Bd7 11.Qd2 b5 12.g4 a5 13.Nd5 Nxd5 14.Bxd5 Bxd4 15.Bxa8 Bxb2 16.Rb1 Bg7 17.Bd5.
17...e6 18.0-0 exd5 19.Qxd5 Qb6+ 20.Kh1 b4 21.a3 Be6 22.Qd3 Qc5 23.axb4 axb4 24.Qd2 Bc3 25.Qf2 Qxf2 26.Rxf2 d5 27.exd5 Bxd5 28.Rd1 Be6 29.h4 Ra8 30.Kg2 Kf8 31.Kg3 Ra1 32.Rxa1 Bxa1 33.Rf1 Bc3 34.Rd1 Ke7 35.Kf4 f6 36.Ke3 h5 37.Rg1 Kf7 38.Kd3 Bd7 39.Ke3 Ba4 40.Kd3 Bb5+ 41.Ke3 Ba4 42.Rg2 Ke6 43.Re2 Bb5 44.Rg2 Ba1 45.Rh2 Kd5 46.Rh1 Bc3 47.Rd1+ Ke6 48.Rd8 Ba4 49.Kd3 hxg4 50.fxg4 f5 51.gxf5+ Kxf5 52.Rd5+ Kf6 53.Ra5 Bd7 54.Ra6+ Ke5 55.Ke3 Bf5 56.Ra5+ Kf6 57.Ra2 Kg7 58.h5 gxh5 59.Kf4 Bg4 60.Ra7+ Kf6 61.Ra6+ Ke7 62.Rb6 Bd7 0–1
«После того как я съездила в составе сборной Украины в Болгарию, связь с этой страной у меня оставалась еще очень долго. Вот в этой комнате перебывали и нередко ночевали все мои знакомые болгары, которые хотели приехать в Киев. Очень все душевно было. Мои домочадцы до сих пор вспоминают, что я их буквально заставляла чувствовать себя как дома и не стесняться заглядывать в холодильник. Очень хорошие и приятные люди были мои болгарские друзья».
ПОДВОДЯ ИТОГИ
Почти до конца своих дней Любовь Иезекиилевна сохраняла свою любовь к общению, всегда рада была гостям, неизменно потчуя их медом с маленькой собственной пасеки на даче под Каневом (автор этих строк не стал исключением). Конечно, в последние годы передвигаться ей было нелегко, но она всегда готова была принять участие в какой-нибудь «тусовке», если ей помогали добраться до места встречи. Шестикратная чемпионка Украины была частым гостем Центрального шахматного клуба Вооруженных сил Украины, разместившегося в Киевском Доме офицеров буквально в ста метрах от ее дома и в котором неоднократно проводились турниры на «Кубок Якир» – Любовь Иезекиилевна поделилась с клубом одним из своих многочисленных трофеев, который и стал переходящим кубком ее имени. Здесь же ее поздравили и с последним юбилеем.

Слева направо: А. Радченко, Л.Якир, А.Коровин (председатель правления ЦШК ВСУ)

Давние соперницы, неоднократно встречавшиеся за шахматной доской. К юбилею Римма Николаевна Антонова (справа) адресовала виновнице торжества такие теплые слова:
С Любовью Якир я познакомилась, когда она была уже очень известной шахматисткой, мастером спорта СССР, участницей финалов чемпионатов СССР, неоднократной чемпионкой Украины.
Я же, будучи дважды чемпионкой Украины среди девушек (16 и 18 лет), добивалась права участия в финалах чемпионатов Украины, пройдя отбор в полуфиналах.
На протяжении 12 лет, ежегодно встречаясь в финалах Украины, дружеских матчах Украина – Россия, проходивших ежегодно на 10 женских и 10 мужских досках, и в заключение на первом личном чемпионате профсоюзов СССР в г. Таллинне, я не переставала удивляться, как эта наша самая заслуженная шахматистка являлась образцом скромности и доброжелательности. Ее абсолютно не коснулась, как сейчас принято говорить, «звездная болезнь». С нами, молодежью, Люба была абсолютно на равных. И сегодня, в 90 лет, Люба сохранила молодость души, бодрость и оптимизм.
С днем рождения, дорогая Любочка! Долгих Вам лет активной, бодрой, кипучей жизни, крепкого здоровья и благополучия!
Римма Антонова

Еще одно поздравление – на этот раз от легенды киевских шахмат и шахматной журналистики Ефима Марковича Лазарева.
Когда мы с Любовью Иезекиилевной были знакомы еще лишь «шапочно», автору этих строк пришлось однажды выслушать ее упреки. И надо признаться, было за что – поместив в одном киевском еженедельнике небольшой материал «Танец маленьких лебедей он бы сочинил иначе» по случаю кончины Д.Бронштейна, ваш покорный слуга ухитрился одновременно переврать даты рождения и смерти замечательного шахматиста (указав неправильно месяцы)! Более того, Любовь Иезекиилевна тогда выразила мне «фе» не только от себя лично, но и передала его также от Юрия Львовича Авербаха! Впрочем, сделано это было в доброжелательной форме.
В одну из наших встреч я не удержался и спросил открытым текстом:
– Любовь Иезекиилевна, можете вы вспомнить какие-то яркие радостные моменты в своей шахматной жизни, когда самой себе можно было уверенно сказать: «Все-таки, не зря я играю в шахматы!»?
– А как же! Когда выигрываешь у Ноны Гаприндашвили – тебе кажется, что ты что-то умеешь! А у Лизы Быковой? Люды Руденко? Оли Рубцовой? Я ведь у всех чемпионок мира – от Руденко до Гаприндашвили – хоть по разу, по два выигрывала! Конечно, в такие дни ты, придя домой, чувствуешь себя очень умным человеком!
Думается, продвинутые читатели ЧессПро не нуждаются в столь популярных ныне смайликах...
А выступая на одном из мероприятий в свою честь, Любовь Иезекиилевна Якир произнесла небольшую речь, которую можно считать ее напутствием всем любителям шахмат:
«Чем больше живешь на свете, тем больше интересных людей успеваешь увидеть. И не только шахматистов. Например, я вот так рядом сидела и разговаривала с Александром Вертинским. Или с человеком-легендой Вольфом Мессингом. А кто из вас был знаком с Ботвинником? Однажды в Москве я зашла в Шахматную федерацию СССР (председателем которой был тогда мастер Зубарев), смотрю – стоит Ботвинник. Тогда я была посмелее и спрашиваю: «Михаил Моисеевич, а Сталин вас знает?» Я считала, что раз Ботвинник такая личность, то и Сталин должен его знать! Он рассмеялся и ответил, что лучше бы не знал.
А Вадим Синявский? Он иногда приглашал меня в кино, и когда я возвращалась в гостиницу, то другим участницам турнира не давал покоя вопрос: «А вы целовались?», всех это очень интересовало.
Для чего я это рассказываю? А просто хочу вам сказать: играйте в шахматы! Вы будете взрослеть и при этом встретите множество интересных людей!».
Затуловская – Коган
(XVII первенство СССР, Сухуми, 1955 г.)
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 d5 4.exd5 Nf6 5.d4 Nxd5 6.Bc4 Nb6 7.Bb3 c5 8.Qe2+ Qe7 9.Ne5 f6 10.dxc5 fxe5 11.cxb6 axb6 12.Nc3 Nc6 13.Nd5 Qh4+ 14.Qf2 Qxf2+ 15.Kxf2 Bc5+ 16.Kf3 Kd8 17.c3 Bf5 18.Rd1 Kc8 19.Bc4 Ne7 20.Nxe7+ Bxe7 21.Bd3 Bxd3 22.Rxd3 Kc7 23.b3 Rhd8 24.Rxd8 Rxd8 25.c4 Bf6 26.Rb1 Rd1 27.Ke2 Rh1 28.h3 Bg5 29.Kf3 Rf1+ 30.Ke4 f3 0–1
Коган – Тихомирова
(XVII первенство СССР, Сухуми, 1955 г.)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.d4 exd4 6.0-0 Be7 7.Re1 b5 8.e5 Nd5 9.Bb3 Nb6 10.a3 0-0 11.Nxd4 Nxd4 12.Qxd4 d5 13.Nc3 c5 14.Qf4 c4 15.Ba2 Bc5 16.Bd2 Qd7 17.b4 Be7 18.Be3 Bd8 19.Rad1 Bb7 20.Bd4 Qe6 21.Bb1 Bc7 22.Qe3 Rad8 23.f4 Nc8 24.Ne2 Ne7 25.Ng3 Nf5 26.Nxf5 Qxf5 27.c3 Qh5 28.Qg3 Qh6 29.Rf1 Rfe8 30.Rde1 Bc8 31.h3 Bb6 32.f5 Bxd4+ 33.cxd4 Kh8 34.Rf4 f6 35.e6 Qg5 36.Rg4 Qd2 37.Rxg7 Qxd4+ 38.Kh2 Rg8 39.e7 Qb6 40.Rxg8+ Rxg8 41.Qxg8+ Kxg8 42.e8Q+ Kg7 1–0
Коган – Эстеркина
(XVII первенство СССР, Сухуми, 1955 г.)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Nc6 5.Nf3 Qb6 6.a3 a5 7.Bd3 Bd7 8.Bc2 a4 9.0-0 Nce7 10.Re1 Qc6 11.Be3 c4 12.Nbd2 h6 13.Nf1 0-0-0 14.Ng3 Nf5 15.Nxf5 exf5 16.e6 Bxe6 17.Bxa4 Qc7 18.Ne5 Nf6 19.Bc2 g5 20.a4 f4 21.Bd2 Rd6 22.b3 Bg7 23.b4 Nd7 24.Nxd7 Qxd7 25.a5 Bg4 26.f3 Bh5 27.Ba4 Qc7 28.b5 Qxa5 29.Bc2 Qb6 30.Bf5+ Kb8 31.Qa4 Qd8 32.Qa7+ Kc7 33.Ra6 Bf8 34.Rea1 Qf6 35.Qc5+ Rc6 36.b6+ 1–0
Коган – Брояковская
(XVII первенство СССР, Сухуми, 1955 г.)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nf6 4.e5 Nfd7 5.Ndf3 c5 6.c3 Nc6 7.Bd3 Qb6 8.Ne2 cxd4 9.cxd4 Be7 10.0-0 f5 11.a3 Nf8 12.Bc2 h6 13.Rb1 g5 14.Be3 Bd7 15.b4 Ng6 16.Qd3 Kf7 17.g4 Rag8 18.gxf5 exf5 19.Bb3 Be6 20.Nc3 Qd8 21.Nxd5 Nf4 22.Nxf4 gxf4+ 23.Kh1 Bxb3 24.Qxb3+ Kf8 25.d5 fxe3 26.dxc6 bxc6 27.Qxe3 Bg5 28.Qc5+ Qe7 29.Qxc6 Kf7 30.Rbd1 Rd8 31.Rfe1 Rxd1 32.Rxd1 Rd8 33.Rxd8 Qxd8 34.Nxg5+ hxg5 35.Qf6+ Qxf6 36.exf6 Kxf6 37.f4 g4 38.Kg2 Ke6 39.h3 gxh3+ 40.Kxh3 Kd5 41.Kh4 Kc4 1–0
Коган – Гольдберг
(Первенство Украины, Киев, 1956 г. Комментарии Б.Ратнера)
Хорошо использовала Коган позиционные погрешности черных в следующей партии. 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Na5 10.Bc2 c5 11.d4 Qc7 12.d5 Ne8 13.Nbd2 f5. Причина всех затруднений черных. Следовало подготовить это продвижение путем 13...g6 с тем, чтобы в случае размена брать на f5 пешкой.
14.exf5! Bxf5 15.Bxf5 Rxf5 16.Ne4 Nc4 17.Qd3 g6 18.b3 Nb6 19.c4 bxc4? После этого позиция черных становится безнадежной. Необходимо было 19...b4 и далее a7-a5-a4, стремясь получить контригру на ферзевом фланге. 20.bxc4 Qd7 21.Rb1 Bd8 22.Bh6 Ng7 23.g4! Rf8 24.Nfg5 Re8. Теряет фигуру, но от угрозы 25.Bxg7 и 26.Ne6 защиты не было. 25.Rxb6 1–0
Ляпунова – Якир
(Полуфинал XXI первенства СССР, Ялта, 1961 г.)
1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 c6 4.e4 d5 5.cxd5 cxd5 6.exd5 Nxd5 7.Bg2 Nb4 8.Nge2 Nd3+ 9.Kf1 Nc6 10.Bxc6+ bxc6 11.Kg2 Bh3+ 12.Kg1 0–1
Белавенец – Якир
(Командное первенство СССР, Ленинград, 1962 г.)
1.e4 c5 2.f4 Nc6 3.Nf3 g6 4.d3 Bg7 5.g3 e6 6.Bg2 Nge7 7.0-0 0-0 8.c3 d5 9.Nbd2 b6 10.e5 Ba6 11.Nb3 Rc8 12.Re1 Qd7 13.d4 c4 14.Nbd2 b5 15.a3 Bb7 16.Nf1 a5 17.g4 b4 18.axb4 axb4 19.Ng3 Ra8 20.Rb1 Ra2 21.Bh3 Rfa8 22.f5 exf5 23.gxf5 Nxf5 24.Nxf5 gxf5 25.Nh4 Ne7 26.Qh5 Bc8 27.Kh1 bxc3 28.bxc3 Qa4 29.Rg1 Qc2 30.Bf4 Qe4+ 31.Qf3 Ng6 32.Qxe4 fxe4 33.Bxc8 Rxc8 34.Nf5 Rca8 35.Bh6 Bxh6 36.Nxh6+ Kg7 37.Nf5+ Kf8 38.Rb7 Rf2 39.Ne3 Raa2 40.Rf1 Rfe2 41.Nxd5 Rxh2+ 42.Kg1 Nh4 43.Rb8+ Kg7 44.Nf6 Nf3+ 0–1
Якир – Раннику
(Спартакиада народов СССР, Москва, 1963 г.)
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 dxc4 4.e3 a6 5.Bxc4 e6 6.0-0 b5 7.Bb3 Bb7 8.Nc3 Nbd7 9.Qe2 c5 10.Rd1 Qb8 11.h3 Bd6 12.Bd2 0-0 13.Rac1 e5 14.dxc5 Nxc5 15.Bc2 Ne6 16.Be1 Rd8 17.Nd2 Nc5 18.Nb3 Nxb3 19.Bxb3 e4 20.a3 Nd7 21.Nd5 Nc5 22.Rxc5 Bxc5 23.Ba5 Rc8 24.Qg4 Rc6 25.Nf4 Rd6 26.Rc1 Bc8 27.Qh5 Be6 28.Nxe6 Bxe3 29.fxe3 fxe6 30.Qc5 Qa7 31.Qxa7 Rxa7 32.Bb4 Rb6 33.Rc8+ Kf7 34.Bc5 1–0
Якир – Идельчик
(Первенство Украины, Ивано-Франковск, 1964 г.)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.c3 Bd7 6.d4 Nf6 7.0-0 b5 8.Bc2 Be7 9.Nbd2 Bg4 10.d5 Na7 11.Re1 0-0 12.Nf1 c6 13.h3 Bd7 14.dxc6 Bxc6 15.Ng3 g6 16.Bh6 Re8 17.Qd2 Qc7 18.Nf5 Bf8 19.Bxf8 Rxf8 20.Qh6 gxf5 21.Qg5+ Kh8 22.Qxf6+ Kg8 23.Ng5 Bxe4 24.Nxe4 fxe4 25.Rxe4 Rfd8 26.Rg4+ Kf8 27.Bxh7 Ke8 28.Bf5 1–0
|