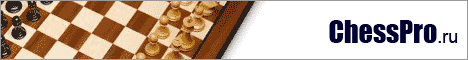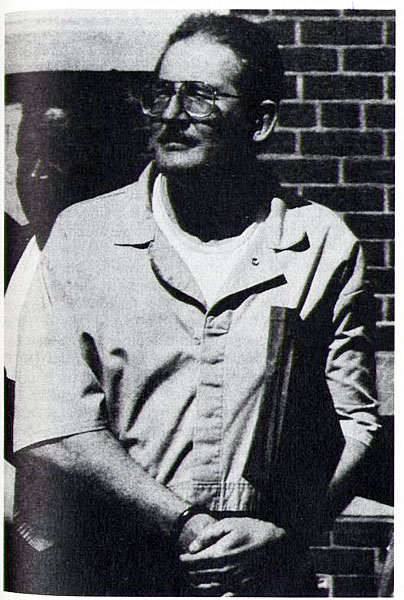|
|
|
||||||||
 |
|||||||||
| Главная | Новости | Турниры | Фото | Мнение | Энциклопедия | Картотека | Голоса | Форум | Поддержать сайт |
Один из этих офицеров впоследствии дослужился на Алтае до полковника внутренней службы, а ныне, несмотря на преклонные годы, азартно сражается в конкурсах по решению шахматных задач. Другой, удостоенный за ратные подвиги звания Героя Советского Союза, будучи впоследствии сотрудником КГБ и находясь в загранкомандировке в США, встал на путь предательства. И теперь фигурирует во многих книгах, справочниках об агентах-двойниках… Как-то я решил написать к 9 мая в «Алтайской правде» (где уже почти, страшно сказать, 35 лет веду шахматную страницу) о ветеране Великой Отечественной Александре Абрамовиче Матвееве. Была информация, что на фронте, после боя, в котором он укокошил уйму гитлеровцев, его наградили шахматами. Согласитесь, необычный случай, за это вообще-то другие награды давали, грудь украшавшие. В общем, в некотором роде заинтригованный, я напросился к нему в гости, в его просторную квартиру в пятиэтажке 50-х годов застройки, в центре Барнаула. Спутницу жизни Екатерину Кузьминичну он схоронил несколько лет назад, у двух дочерей – свои семьи. Росту Александр Абрамович гренадерского, сохранил хорошую осанку, на вопрос о здоровье ответил, как, наверное, привык отвечать: «по возрасту» (он вырос в сибирской деревеньке, где еще мальцом полюбил шахматную игру, и она остается его любимым досугом на протяжении вот уже более 80 лет!). Усадил за стол, выпили по рюмке, закусили, и он начал рассказывать: - Нет, шахматами меня на фронте не награждали, наоборот, они были мной захвачены в ходе боя, а дело было под Тихвином, куда нашу артиллерийскую часть перебросили с Дальнего Востока для прорыва блокады Ленинграда. В тот зимний день нам надо было поддержать огнем батальон пехоты, чтоб перерезать немцам путь из Тихвина, откуда они уже собирались утикать. А в том месте под снегом была топь болотная, три наших оружия в ней увязли. Но одно все-таки удалось подтащить к дороге, на которую вдруг выскочил немецкий броневик, сразивший пулеметами весь наш орудийный расчет. А я был артиллерийский разведчик, но еще на Дальнем Востоке нас учили взаимозаменяемости, так что мог быть и наводчиком артиллерийского расчета. Кинулся к орудию, зарядил, стал стрелять по броневику. И со второго выстрела попал! Пулеметы его разом замолчали, пехота наша поднялась, бегу к дымящемуся броневику, возле него – три немецких трупа, у одного, в офицерской форме, - планшетка. А в ней – карты, документы какие-то и… роскошные дорожные шахматы, миниатюрные фигурки на вид из слоновой кости. Видать, немец тоже был шахматным любителем. Ну, документы передал «по команде», а шахматы оставил себе, как трофей. Хотя… - взял паузу Александр Абрамович, - не знаю, рассказывать или нет… Попросил их у меня один «смершевец» – поиграть. Да так и «заиграл», а мне не совсем с руки было ему напоминать. Связываться со «смершевцем» – себе дороже… - Александр Абрамович, а после вы где воевали? - Да я всю войну прошел, до победного. Вот такой везунчик. Освобождал и Новгород, Псков, эстонские, латвийские города, брал Кенигсберг, форсировал Одер, штурмовал Зееловские высоты, когда по приказу Жукова 140 мощнейших зенитных прожекторов в предрассветной темени ослепили немецкую оборону… Войну я начинал рядовым, конным артиллерийским разведчиком (была у меня лошадь по кличке Пульман, стереотруба за плечами), а заканчивал старлеем в артдивизионе 262-го артполка, куда меня перевели парторгом, как взяли Данциг, в марте 45-го. В дивизионе я как-то сразу прижился, может, потому, что был бесшабашным, верил в свою заговоренность. Командовал дивизионом старший лейтенант Алексей Кулак, молодой, москвич, грамотный, не по годам серьезный, требовательный, строгий. Но как это говорят: строг, но справедлив. И в дивизионе, и в полку его все уважали, солдаты любили. Ходил с костылем, до этого несколько раз ранен был. У меня с ним сразу наладились хорошие дружеские отношения…
Через Одер мы переправились по понтонному мосту (позже я узнал, что только в той полосе переправы было четыре таких моста), который все время пытались разбомбить немецкие бомбардировщики, а наши ястребки их отгоняли… Когда закрепились на западном Одерском берегу, там наших войск было по фронту километров на 30. И 16 апреля вся эта масса войск пошла вперед под сплошной гул наших самолетов, ураганный огонь нашей артиллерии. До переднего края обороны немцев на Зееловских высотах было шесть километров, и, когда стали эти вражеские укрепления брать, наш артдивизион на правом фланге Зееловских своими 76-ми пушками поддерживал пехотный полк. Но по тому, как он атаковал, видно было, что полк слабый, необученный. Ну и немцы это поняли, контратаковали, и пехота побежала в обратную сторону к позициям артдивизион. И тогда Алексей с автоматом бросился ей наперерез, стреляя поверх голов пехотинцев: ни шагу назад, тудыть вашу!.. По его приказу я и начштаба дивизиона Костя Козлов бросились – один в одну сторону, другой – в другую, и так втроем ошалевшую пехоту остановили, сбили панику. Выкатили тут же пушки на прямую наводку и вдарили по немцам! Они как тараканы по щелям попрятались, а пехота наша очухалась – и вперед! За тот бой мне дали орден Отечественной I степени. От Зееловской преграды до Берлина оставалось пройти километров 60-70, большую часть немецких войск, преградивших дорогу нашей 5-й ударной армии 1-го Белорусского, перемололи еще на подступах к городу, в берлинское предместье, прикрывая десантную группу, наш артдивизион ворвался одним из первых. - На Рейхстаге свой автограф оставили, Александр Абрамович? - А как же! 1 мая сели с Костей Козловым в трофейную немецкую машину, подъехали к его дымящемуся зданию (там еще шли бои) и расписались на его стене головешками. Там уже было много фамилий советских солдат. Нас потом еще направили добивать Венка (армию генерала Венка, на которую так рассчитывал агонизировавший фюрер), после чего сделали из нашего полка бригаду тяжелых минометов, и там я в звании гвардии старшего лейтенанта также был парторгом. - И Кулак служил в этой бригаде? - Да, и получил в 46-м Звезду Героя Советского Союза, ему ее дали, думаю, в том числе и за той бой на Зееловских высотах. Демобилизовался я в апреле 47-го, одновременно с Кулаком. След его потерял, но, думаю, в жизни он не затерялся, человек был неглупый… После войны Алексей Кулак поступил в институт пищевой промышленности, но тут в Московском химико-технологическом институте создают суперсекретный факультет, чтобы ковать кадры для будущих атомградов. Отбор был строжайший, но Герою Советского Союза – какие препоны?! После – аспирантура, в 57-м защищает кандидатскую по актуальнейшей теме для набиравшей атомную мощь сверхдержавы: «Радиоактивный анализ редких металлов». После этого ему прямой путь был в государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности, проще – «Гиредмет», где, кстати, уже достойно трудился (впоследствии стал директором этого суперсекретного НИИ, членкором) Борис Сахаров, тоже бывший фронтовик, ну, а шахматном мире он известен как автор великолепных этюдов, мастер спорта, многолетний председатель комиссии по задачам и этюдам при шахматной Федерации СССР. В силу общности научных интересов, Борис Сахаров – Алексей Кулак могли и пересечься где-нибудь на лабораторном пространстве, причем научный руководитель Бориса Андреевича – профессор Сергей Иванович Скляренко, крупный специалист в области химии и технологии редких металлов, мог иметь какое-то отношение и к диссертационной работе Кулака, которого, как только он «остепенился», заарканило руководство научно-технической разведки Первого главного управления КГБ. Молодого ученого направили в разведшколу, окончив ее, он уезжает в Нью-Йорк, под видом сотрудника ООН. В последующие годы трудится в советском ООНовском представительстве, затем – отозван в Москву, и после трехлетней «пересидки» снова уезжает в «город желтого дьявола», в чине атташе по науке все в том же советском представительстве. За успешное выполнение своих тайных разведывательных обязанностей получает два ордена – Красного Знамени и Красной Звезды. К чему, правда, приложило руку ФБР, регулярно снабжавшее своего агента по кличке «Федора» информацией о технических новинках. Но чтобы внедрить их, Советскому Союзу потребовалось бы десятилетия… Как утверждают отечественные историки спецслужб, Кулак пошел на добровольное сотрудничество с фэбэровцами исключительно из-за недовольства своим слабым карьерным ростом. Уже когда его проводили на пенсию, он был разоблачен одним из «кротов» в американских спецслужбах (предположительно Олдричем Эймсом), но из-за опасности засветить этот «источник», Кулака, умершего в 1984-м от онкозаболевания, похоронили с почестями. А какое-то время спустя негласно лишили всех правительственных наград. Такой известный историк спецслужб, как профессор Кембриджского университета Кристофер Эндрю, утверждает - и самого Эймса (выдавшего КГБ с десяток, а то и более двойных агентов) толкнуло на путь измены то, что он считал себя чрезвычайно способным сотрудником, которого обходили по службе более молодые конкуренты.
Ну, насчет своих чрезвычайных способностей Эймс мог и заблуждаться, а вот самомнение Кулака, бесспорно, имело веские основания. Многие знающие себе цену люди остры на язык. Как вспоминал один из сотоварищей Кулака по разведшколе, тот, никого и ничего не боясь, чехвостил конъюнктурщиков – начальствующих особ любого ранга вплоть до небожителей, чьи портреты таскали на праздничных демонстрациях… Не потому ли система и не дала ему хода? …Многие годы возглавляя пожарную службу Алтайского края, полковник Матвеев лично организовывал во вверенных ему частях шахматные чемпионаты и, случалось, сам в них и побеждал, играя в силу крепкого второго разряда. Живет ветеран в двух шагах от городского шахматного клуба, и сейчас он один из его завсегдатаев. Пишущему эти строки одно удовольствие получать письма от него, старейшего участника конкурсов «Алтайской правды» по решению шахматных задач. Всегда в его письмах есть что-то юморное (с шуткой по жизни - не есть ли это один из компонентов эликсира долголетия). Вот что Александр Абрамович мне недавно написал: «Спасибо за очень сложные задания. Пока их решал, сжег три кастрюли. Поставлю разогревать обед, уйду подумать над задачами. Увлекусь, очнусь, на кухне дым, чад… но зато с такими задачами жить веселее». |
|
|